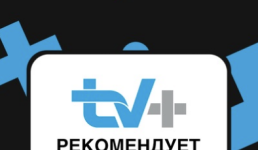Любое общество — а в «развитых» странах Запада это проявляется наиболее наглядно — устроено так, что оно невольно пытается смягчить социальные проблемы за счет большей однородности, стандартизации сознания своих граждан. По возможности уравнять всех членов общества во взглядах и жизненных ценностных установках — значит сделать их предсказуемыми и тем самым — косвенно — более управляемыми.
Попытаться в определенной степени как бы «зомбировать» людей общими идеалами (например, накопления/потребления) или антиидеалами (в частности, образом общенационального «врага»), то есть сплотить общество, манипулируя древними, первичными механизмами психики на уровне инстинктов и базовых потребностей — такими, как стадный инстинкт (У. МакДауголл), активизирующийся противопоставлением «свой-чужой», или потребность в принадлежности (А. Маслоу), тесно связанная с потребностями в защите/безопасности и любви/уважении.
В форме же принадлежности к определенной социальной группе эта потребность трансформируется в культ материального успеха и «гонку» потребления. (Недостаточное удовлетворение данной потребности в сфере социальных или семейных отношений делает человека потенциальной жертвой многочисленных сект и деструктивных культов.) А для этого индивидуальное сознание каждого члена общества необходимо «выровнять под одну гребенку» сознания массового. Для достижения подобной цели необходимо добиться, чтобы как можно больше людей подчинялось «мэйнстриму», разделяло принятые в обществе стереотипы и мифы массового сознания или, по выражению Р.И. Нигматулина, «чтобы большинство… думало «как надо» или не думало вовсе».
Поэтому распространение массовой, «усредненной» культуры и примитивизацию общественного сознания можно сравнить с экологическим бедствием. Для общества «развитого», техногенного, общества массового потребления и массовой информации сам способ его существования — причем в экономической сфере даже больше, чем в политической, — требует уменьшить проявления интеллектуальной независимости людей (особенно показательно в этом плане воздействие средств массовой информации). Заблокировать у многих членов общества «вредную» привычку думать самостоятельно означает под действием рекламы превратить их в потребителей как материальных, так и интеллектуальных полуфабрикатов.
Типичным феноменом массового сознания становится стандартизация личности вкупе со снижением общекультурного уровня, названная еще 3. Фрейдом «психологической нищетой масс», а современными авторами — «процессом расчеловечивания» (Скатов Н.).
Пожалуй, наиболее ярко этот процесс описан Э. Фроммом: «человек перестает быть самим собой, полностью усваивает тот тип личности, который предлагается моделями культуры, и целиком становится таким, каким его ожидают видеть другие». Отсюда, по Фромму, вытекает еще один феномен — социальной покорности или конформизма как способа невротического «бегства от свободы». А покорность, как отмечает А.Н. Моховиков, порождает феномен «социального оглупления», тяготения к более примитивным социальным группам (ассортивности), подчинения большинству не только во внешнем плане, но и в интеллектуальном: «Каждый надевает на себя одинаковую безликую одежду, в которой нет отличий и заметен только уныло-однообразный ряд Мы. При массовой покорности появляются люди-автоматы, люди-винтики, и гипотетические наблюдатели тогда оказываются на самом гигантском аутодафе, которое придумало человечество, — тотальном уничтожении множества индивидуальных Я».
Отсюда в обществе создается «послушное агрессивное большинство» или слой людей примитивно-приземленных, без духовных запросов. Это люди, которые стремятся жить «как все», «не выделяться». Именно поэтому они готовы преследовать тех, кто не похож на них как по образу жизни, так и по образу мыслей, чье существование бросает вызов выхолащиванию духовной основы жизни. «Человек, находящийся в общественном месте, является как бы автоматом, подчиняющимся общим правилам и выполняющим общепринятые обычаи» (Бехтерев В.М.).
В обществе создается культ материального успеха одновременно с пренебрежением ко многим «нематериальным» сферам жизни. Конформизм и потребность во внешней оценке (как у ребенка, нуждающегося во внимании взрослых) приводят к тому, что «средний» человек, который стремится жить «как все», начинает вести демонстративный, «показушный», инфантильно-истероидный образ жизни: «семья напоказ» — «Женщина напоказ» — «ребенок напоказ» — и наконец, собственная персона «напоказ» (юнговская «Маска»).
Что в этом плохого? Когда собственное «Я» ориентировано преимущественно на мнение других людей, его не остается для себя самого. А это значит, что у человека не сформировано представление о собственном «Я» — в первую очередь о своем предназначении и жизненном смысле. Отсюда — внутренняя раздвоенность, «расщепление» между разумной, левополушарной частью личности («Я успешен… Я лидер… У меня все в порядке…») и ее эмоциональной, правополушарной частью, рассудку неподконтрольной и самообману неподвластной («А кому до этого есть дело… А кому вообще ты нужен… А нужно ли это тебе самому… Зачем ВСЕ это вообще, ради чего? Ведь жизнь проходит… Проходит в этой суете»).
Типичным порождением такого образа жизни становится человек, на первый взгляд достаточно зрелый в практическом, жизненном смысле (точнее, приспособившийся, приземленный) и инфантильный в духовном. Отсюда «всплески» нерационального поведения (особенно зависимости — алкоголизм, наркомания, гэмблинг, экстремальные развлечения, в конце концов, та же интернет-зависимость — как протест против серости жизни и попытка отгородиться от реальности). Отсюда и мистико-эзотерическая податливость — как проявление инфантильного «магического» мышления (наивно-детское ожидание чуда, мгновенного изменения, «просветления») и потребность в «учителе» (на самом деле поиск готовых, универсальных ответов на все жизненные вопросы как перенос ответственности на чужие плечи).
В чем причина подобной человеческой стандартизации и покорности? В «пережитках детства», в отзвуках родительского воспитания и давлении Супер-Эго, благодаря которому люди, сравнивая себя с другими, склонны подвергать себя поистине губительной самокритике и самоуничижению, удушающим личностный рост и ведущим к неврозу (А. Эллис). Происходит это тогда, когда человек является в полном смысле слова продуктом современного общества — когда он внутренне недостаточно гармоничен, когда он не «заземлен», не уверен в себе, является рабом собственных эмоций и жизнь его недостаточно осмысленна. И тогда он теряет себя, свою «самость». Тогда человек не находит в себе сил для того, чтобы оспорить общепринятые заблуждения и пойти наперекор общему мнению, если оно является ошибочным, тогда он становится игрушкой в руках манипуляторов или жертвой обстоятельств. По словам Р. Кийосаки и Ш. Лектер, именно «страх быть осмеянными заставляет людей не выделяться и не ставить под сомнение общепринятые взгляды и тенденции».
Таким образом, социальная покорность базируется на интеллектуальной несамостоятельности, которая становится нормой жизни современного человека, воспринимающего стереотипы, внушенные ему средствами массовой информации, как собственные мысли. Последнее, в свою очередь, связано с тем, что «личность, подавленная зрелищем всесокрушающей власти, лишается внутренней самостоятельности… отрекается от поиска собственной позиции» (Бонгеффер Д.). Обратная же сторона всех этих процессов массового сознания, отражающих постепенное стирание человеческой индивидуальности из-за ее подавления обществом, — кризис политической организации, напрямую связанный с кризисом личности (Шестопал Е.Б.). Личность, в свою очередь, платит обществу той же монетой — социальным отчуждением, пассивностью, потерей веры в пропагандируемые обществом ценности, а также потерей доверия к власти и отказом этой власти в поддержке, вызванным неверием в то, что личное участие может хоть как-то повлиять на политический процесс.
Инструментом стандартизации сознания в нашем обществе становятся средства массовой информации (не случайно еще А. Маслоу в качестве одной из важных черт самоактуализированной личности выделял ее независимость от информационного давления — ориентацию человека в первую очередь на собственное мнение, автономность его оценок и самостоятельность суждений). Подчеркнем, что распространяемые СМИ сюжеты о жестокости и насилии нарушают эмоциональное развитие детей и подростков, приводя к размыванию понятий добра и зла и возрастанию общего «деструктивного потенциала» личности (Масагутов P.M.). Личность, формирующаяся в подобных условиях, страдает недостаточной способностью к эмпатии, неумением поставить себя на место другого человека (связанными с негармоничным, избыточным левополушарным доминированием). Все это приводит к возрастанию в обществе жестокости и агрессии, превознесению культа силы и дефициту человечности.
Естественно, что многие люди инстинктивно пытаются защищаться от информационного давления с помощью его вытеснения, блокирования восприятия (эти механизмы психологической защиты срабатывают на интуитивно-автоматическом уровне). В результате человек все больше самоизолируется от общества — ценой утраты способности к сопереживанию, сочувствию, искренности и подлинному взаимопониманию в отношениях со значимыми другими («интимности», по Э. Берну), ценой «механизации» душевной жизни или мучительной внутренней «раздвоенности». Он отгораживается от окружающих стеной невнимания, непонимания и ложных убеждений, потоком ничего не значащих слов. Когда-то Сент-Экзюпери писал о том, что главная ценность в мире — человеческое общение. Именно эту ценность современный человек и утрачивает. Выбирая жизненный стиль глобального, всепроникающего индивидуализма и бездуховности, человек изолирует себя и от коллективного бессознательного (в терминологии К.Г. Юнга). Тем самым он воздвигает незримый барьер в своей психике, отгораживаясь и от собственного подсознания. Человек становится глухим к движениям собственной души, ее безотчетным порывам, к своим истинным потребностям, пытаясь заместить их потребностями иллюзорными, навязанными стереотипами — «быть как все». При этом он отказывается от поиска своего истинного «Я», своей самости, от индивидуации («пути к себе») и вынужден «наступать на горло собственной песне».
А отсюда — душевный надлом, кризис, жизнь в состоянии непрекращающегося внутрипсихического конфликта. Отсюда утрата, вернее, непонимание человеком своего жизненного смысла, питающее душевную болезнь современного общества — ноогенный невроз (В. Франкл) и его социальные последствия в форме невротической триады — депрессии, наркомании, агрессивности. Последняя связана с тем, что растущая социальная разобщенность заставляет людей в лучшем случае относиться друг к другу по принципу «человек человеку — никто», а чаще «человек человеку — потенциальный конкурент». В худшем же случае — относиться к другому как к прямому недоброжелателю, считая лучшей защитой от его посягательств активное, агрессивное противостояние. Иными словами, социальное отчуждение неминуемо приводит к внутриличностному отчуждению и духовному опустошению. Отсюда возрастает потребность человека в душевном освобождении (Джеймс У.).
Отрывок из книги Марка Сандомирского «Психосоматика и телесная психотерапия: практическое руководство.» (Москва, «Класс», 2005.).